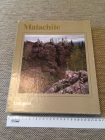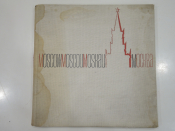Прижизненное издание.Первое издание на русском языке. Дюамель, Жорж.Принц Жаффар : [Роман] / Жорж Дюамель ; Пер. [с франц.] под ред. Н. Н. Шульговского. - Ленинград :издательство "Время", 1925г. - 232 стр.;уменьшенный формат:19на13.5см.Тираж 6000экземпляров.СОСТОЯНИЕ на ФОТО,ДОСТАВКА ЛОТА в ДРУГОЙ РЕГИОН-ПОЧТА РОССИИ.
ДЛЯ СПРАВКИ: Дюамель Жорж (1884–1966) – французский прозаик и поэт, драматург, литературный критик. Лауреат Гонкуровской премии, член Французской академии.
Жорж Дюамель — один из выдающихся прозаиков первой половины XX века, продолжатель критического реализма классиков французской литературы. Он принадлежит к плеяде писателей, создавших монументальные циклы романов, в которых отражены существенные черты современной эпохи.С 1924 года, когда выходит второй роман цикла «Жизнь и приключения Салавена» и роман «Принц Жаффар»,жанр "романа" становится главным в творчестве Дюамеля. Однако по сравнению с романами Анатоля Франса («Современная история»), Роже Мартен дю Гара («Семья Тибо»), Жюля Ромена («Люди доброй воли»), Луи Арагона («Реальный мир»), Андре Мальро («Удел человеческий») изображение социальной действительности в произведениях Дюамеля отодвинуто на второй план. Главная тема его творчества — нравственные и интеллектуальные проблемы современного человека. «Существует две истории мира — история его деяний, высеченная в бронзе, и история его мыслей, которая никого, кажется, не интересует», — говорит один из персонажей Дюамеля (роман «Полуночная исповедь»). Этой второй истории и посвящено творчество Дюамеля.В это время писатель занимается изучением проблем романа и пишет «Этюд о романе» (1925), в котором высказана его эстетическая программа. По мысли Дюамеля, искусство играет важную роль в жизни общества. Оно — не самоцель, а средство познания жизни и человека, средство воспитания человека. «Всякий роман, удаляющий нас от жизни, каким бы привлекательным он ни казался, является ошибочным и жалким произведением», — пишет Дюамель. С его точки зрения, наиболее плодотворны традиции классиков французского реалистического романа. Но, по его мнению, в XX веке настало время не столько изображать конкретную социальную действительность, сколько изучать «единственную подлинную реальность» — внутренний мир человека, в котором таятся вечные незыблемые ценности.В его романах -стремление взамен «линейной латинской психологии» французской литературы дать полную противоречий, подлинную внутреннюю жизнь человека. Он был и поэтом, и драматургом, и прозаиком, и публицистом. Его книги имели в свое время огромный читательский успех во Франции и в других странах. Многие из них переведены на тридцать языков. Наиболее выдающиеся произведения Дюамеля актуальны и в наши дни — в них отражены те проблемы западной цивилизации, которые все настойчивее звучат в новейшей западной литературе и публицистике. В 20-е и 30-е годы Дюамель был одним из немногих писателей-гуманистов, предупреждавших об опасностях, которые несет с собой развитие западной цивилизации, ее технический и научный прогресс. Он заявлял о необходимости направить развитие прогресса таким образом, чтобы оно не подчиняло человеческую личность единственной задаче — применению научных открытий и изобретений в промышленности для получения больших прибылей. Утверждение главенства человека, сохранение высокой человечности было движущей силой, смыслом и целью произведений и поступков Жоржа Дюамеля.В книге «Сцены будущей жизни» (1930), написанной после путешествия в США в 1928 году, Дюамель более проницателен — его анализ американской цивилизации во многом актуален и в наши дни. Дюамель был первым послевоенным европейским писателем, ощутившим глубокую тревогу перед угрозой распространения далеко за пределы США американского образа жизни, страшного своей бездуховностью. Его ужасает оскудение и разрушение человеческой личности, к которому ведет ускоренное развитие «машинной цивилизации» с ее культом материального процветания, доведенным до фетишизма. «Навязать человеку потребности и аппетиты, чтобы сбывать свой товар, — вот в чем суть философии этой торговой диктатуры», — пишет Дюамель, зорко замечая явление, о котором публицисты и социологи будут писать только через тридцать лет. Он предвидит и опасности того, что теперь называют «массовой культурой». Его возмущает колоссальное распространение с помощью новой техники третьесортной культурной продукции, отучающей людей мыслить.Дюамель увидел в США, что «машинная цивилизация» достигла там иного по сравнению с Европой этапа развития. Он называет свою книгу «Сцены будущей жизни», потому что и Европе не миновать этого пути в недалеком будущем. Но он заглядывает еще дальше. Предвосхищая некоторые нынешние научно-фантастические утопии, Дюамель выступает против «машинной цивилизации» и как биолог: он опасается, что машины, освободив человека от необходимости совершать усилия, вызовут физическую деградацию человечества. «Раз машина существует, почему бы не потребовать от нее всего? Чтобы она освободила нас от всего, даже от жизни?» Идеи, волновавшие Дюамеля, высказанные также в «Письмах к моему другу патагонцу» (1926), нашли отражение в его художественном творчестве позднее — в цикле романов «Хроника Паскье». АНДРЕ МОРУА о ЖОРЖЕ ДЮАМЕЛЕ:"Если смуглое худое лицо Мориака, его тревожный взгляд вызывают в памяти портреты Эль Греко [1], то внешность Жоржа Дюамеля — цветущего, круглолицего, с проницательным, чуть насмешливым взглядом из-под роговых очков — ассоциируется, скорее, с персонажами Гольбейна. Впрочем, только большой мастер сумел бы передать все тонкости подобного типа лица. Ему пришлось бы найти верное сочетание ироничности с почти монашеской благостностью. Дюамеля иногда сравнивают с Достоевским — действительно, некоторые его герои одержимы странными идеями, напоминающими персонажей «Бесов», — однако все то, что Достоевский переживает, Дюамель спокойно оценивает и подчиняет своей авторской воле. Всякий француз описывает безумие лишь затем, чтобы лишний раз воздать хвалу разуму. Мы найдем у Дюамеля и душевный трепет, и порою даже священный гнев, но и то и другое находится под контролем благоприобретенной мудрости. Подобно Мориаку, Дюамель искал в творчестве освобождения от своей внутренней тревоги, но если Мориак сумел найти спасение в католицизме, то Дюамель надеялся обрести душевный покой в некоем стоицизме сердца и приятии человеческого удела. Я не уверен, что это ему удалось."Жорж Дюамель – французский прозаик и поэт, драматург, литературный критик; лауреат Гонкуровской премии (1918); член Французской академии (1935) – родился 30 июня 1884 года в Париже в небогатой семье.Получил медицинское образование. В 1906 вместе с Ж. Роменом, Ш. Вильдраком и Рене Аркосом принял участие в создании артели молодых поэтов и художников «Аббатство»; через несколько месяцев сделался одним из руководителей и виднейшим критиком литературной группы унанимистов, звавших быть «ближе к жизни», восстававших против книжности, искусственности, натурализма и символизма. В 1907 дебютировал книгой стихов «О легендах, о битвах». Затем были: сборник стихов «Спутники» (1912), пьесы «Свет» (1911) и «Битва» (1913). С 1912 стал редактором литературного обозрения «Mercure de France».АНДРЕ МОРУА:"В 1914 году Жорж Дюамель, военный врач второго класса, был назначен в полевой госпиталь хирургом, а затем получил, по своей просьбе, «газовое» отделение. Четыре года войны он провел бок о бок со своими пациентами, сражаясь вместе с ними против смерти на поле брани человеческого страдания. Через его руки прошли тысячи изувеченных, истекающих кровью французов всех слоев общества — рабочие, крестьяне, буржуа. Он научился уважать их и любить. Почти все они проявляли в страдании сдержанность и целомудрие, которые служили уроком как Дюамелю-художнику, так и Дюамелю-человеку. Они были мучениками веры — веры во Францию — и помогли Дюамелю осознать, насколько глубоко он сам ощущает себя прежде всего французом. Его записи о своих пациентах, сделанные в эпоху великого лихолетья, составили две книги: «Жизнь мучеников» и «Цивилизация». В них впервые Дюамель предстает таким, каким мы его знаем. Каковы же основные темы, переходящие из рассказа в рассказ? Это, прежде всего, отчаянное сострадание к жесточайшим человеческим мукам, о которых в тылу ничего не знают и не хотят знать; преклонение перед мужеством своих братьев, простых французов; ненависть к смертоносным машинам и технической цивилизации, превратившей войну в массовое истязание людей, перед которым бледнеют все застенки инквизиции, все камеры пыток прошлого; презрение к тем, кто усматривает в чужих страданиях лишь повод для моральных рассуждений, возможность развернуть административную деятельность, прославиться или сделать карьеру; стремление преодолеть пассивное приятие зла и возвыситься до любви. Общий тон повествования, исполненный большой теплоты, переходит временами в иронический, но ирония эта всегда трагична. Жестокий сарказм в сочетании с острой жалостью к человеку, картина расцветающего пышным цветом тщеславия на фоне страдания и смерти делают эти две книги достойными Свифта. Рассказы Дюамеля напоминают посвященные ужасам войны жуткие и гротескные рисунки Гойи [7]. Он как бы говорит нам: цивилизация не в автоклаве, не в радио и не в самолетах. «Она в человеческом сердце или нигде». Войне обязан Дюамель и еще одним открытием, которое на первый взгляд может показаться второстепенным, но для него оно имело огромное значение: это флейта. Музыку он любил всегда. Заняться игрой на флейте посоветовал ему дирижер военного оркестра 13-го пехотного полка, сочтя, что флейта — инструмент не слишком сложный и вскоре позволит новичку участвовать в выступлениях музыкального ансамбля. «Когда наступал вечер, я часами наслаждался нехитрой мелодией, которую мне удавалось извлечь из моей флейты... Сбросив гнет дневных горестей и тревог, душа моя делалась легкой, невесомой и свободно воспаряла к безмятежному свету...» Уроки музыки служили дополнением к урокам страдания. Музыка не подвластна ненависти, она выше распрей и жажды мести. Для Дюамеля она стала раем, недосягаемым для безумств рода человеческого. Удостоившись за «Цивилизацию» Гонкуровской премии, Дюамель сразу же приобрел широкий круг читателей. Эссе «Овладение миром», где им сформулированы основные нравственные выводы прожитых лет, завоевало Жоржу Дюамелю друзей и последователей. Он доказывает, что истинное счастье основано на овладении миром, то есть на полном и глубоком проникновении в сущность вещей. Овладение миром есть познание этого мира, цветов, животных, людей. Мы не бедны, если нам дано знать свои богатства. За несколько лет Дюамель сделался одним из властителей дум Европы."..."Прежде всего Дюамель любит западную цивилизацию и цивилизацию тех народов, которые он называет «сердечными». Это человек западный до мозга костей. Нью-Йорк и Чикаго его оглушили. Во Франции он любит все: ее пейзажи и города, ее памятники, картины и книги, ее язык, где каждое слово, если оно употреблено правильно и со вкусом, доставляет ему физическое наслаждение, ее кухню, о которой он говорит со страстью истинного ценителя, ее вина и сыры, чье тонкое совершенство равноценно в его глазах совершенству прекрасного стиля. Он питает почтение к французской чувственности, ибо в ней всегда присутствует утонченность и чувство меры. Когда какой-то дотошный экономист попытался доказать ему, что дома варить варенье невыгодно, так как на фабрике труд более производителен, он ужасно рассердился. Выходит, запах, который наполняет дом в день варки варенья, не в счет? «В этом доме, мсье, — высокомерно ответил он экономисту, — варенье варят исключительно ради запаха». Его сердцу дороги домашние церемонии. Поскольку сам он вырос в семье бродячей, напоминающей семью мистера Микобера [11], он хорошо знает цену налаженному быту. Ему приятно видеть, как счастливы его дети. Разумеется, ни одно семейство не обходится без ссор, обманов и неурядиц. Что поделаешь? Семья есть семья. И все-таки здесь друг друга любят. «Куда девать столько любви, куда девать всю любовь, всю нежность и весь труд мира, если не будет всех семей мира, чтобы все это поглощать, даже если порой это встает поперек горла?» Семья — это чудовище, придуманное для того, чтобы поглощать весь мировой избыток любви. Когда дети уходят, они думают: «Как строить свою жизнь? Во всяком случае, не так, как она строилась в этом несчастном доме». Но кончается дело тем, что они во всем повторяют своих родителей, включая и те недостатки, которые когда-то их возмущали, и в один прекрасный день они возвращаются все к тому же, столько раз проклинаемому ими семейному очагу: «Кто бы мог подумать, что семья — это так трудно?» История типичная, особенно для средних классов Франции. А Дюамель любит эти средние классы, «ибо если они средние с точки зрения доходов, то в смысле ума, образованности, бескорыстия они блещут в первых рядах того самого общества, которому они поставляют без счета наставников, вождей, принципы, методы, прозрения, примеры, оправдания». Он прекрасно знает среду ученых, преподавателей, врачей. Эта среда чем-то напоминает семью: у нее есть свои пороки, здесь случаются на почве честолюбия не слишком красивые конфликты, но зато какая любовь к труду, к своей профессии, к поиску! Какое чувство гражданского долга! Какая неутомимость! И порою (хотя человек не может быть до конца свободен от чувства зависти) — какая святость!"..."Зато уж если Дюамель ненавидит, то ненавидит с такой силой, что преображается даже его стиль, обращая этого проповедника в памфлетиста. Он мог бы, по примеру Золя, написать книгу под названием «Что я ненавижу?» [12], поставив на первое место в этом ряду индустриальную машинную цивилизацию, хотя она вызывает в нем даже не столько ненависть, сколько сожаление обо всем том, что ею загублено. «Сцены будущей жизни», немало способствовавшие славе Дюамеля, приняли в глазах европейской публики — вопреки воле автора — оттенок выпада против Соединенных Штатов. Разумеется, его не могла не оттолкнуть охватившая Америку мания автоматики, однако он сумел, как никто другой, ощутить неподдельную доброжелательность и сердечную теплоту, таящуюся в обитателях этой страны. Критика его направлена исключительно против массовой индустриальной цивилизации, против тех ее аспектов, которые он критиковал и в России и которые в недалеком будущем станет критиковать в Германии. Как истинный врачеватель нравов, он наблюдал больных, жертв отравления комфортом. «Пока у нас не было машины, мы прекрасно без нее обходились. Теперь же у нас возникла потребность в ней. И эта потребность крепко нас держит... Вся философия этой индустриальной и торговой диктатуры подчинена единственной цели — навязать человечеству потребности и аппетиты... Существа, которые населяют сегодня американские муравейники, требуют осязаемых, неоспоримых благ, которые им рекомендованы — более того, предписаны — верховными божествами этой страны. Они исступленно жаждут патефонов, телевизоров, иллюстрированных журналов, кинофильмов, лифтов, холодильников, автомобилей, много автомобилей. Им нужно как можно скорее стать хозяевами всех этих на диво удобных вещей, которые незамедлительно, по странному закону обратного действия, превращают их в своих угнетенных рабов...» В чем обвиняет Дюамель цивилизацию машин? В том, что она убивает индивидуальную культуру, которая, по его мнению, есть единственная культура, и подменяет индивидуальное усилие, некогда породившее столько прекрасного, унифицированным пайком псевдокрасоты и псевдомысли. Заглянув однажды в кинотеатр на Бродвее, он пришел в ярость от «фальшивой роскоши этого всемирного дома терпимости», от «его фальшивой музыки, музыки консервных банок, настоящего музыкального фарша» и, наконец, от самого зрелища на экране, которое есть «времяпрепровождение для неграмотных, развлечение для идиотов, для убогих созданий, отупевших от труда и забот». Во время путешествия по стране он был поражен конформизмом — зачастую конформизмом нонконформизма, — который совершенно уничтожает, по мнению Дюамеля, свободу мысли. «Наши общественные институты не приспособлены для того, чтобы обеспечивать единообразие мысли; будь это иначе, нам не на что было бы надеяться». Он побывал на футбольных и бейсбольных матчах и пришел к выводу, что созерцание того, как бегают другие люди, — занятие столь же далекое от спорта, как слушание пластинок — от музицирования. Повсюду он видел рабов своих дел, своего автомобиля, своего благосостояния и страдал за них, за себя, за будущее мира. Где ты, сад Вальмондуа и маленький семейный оркестр?" ..." Дюамель напомнил человеку, что если он и ему подобные потеряют свою душу, то массу, которую они образуют, уже нельзя будет спасти. «Довольно принижать моральную культуру, единственный залог мира и счастья, перед безответственным и непокорным демоном, который вселился в лаборатории... Нужно попытаться объяснить растерявшимся людям, что их счастье состоит не в том, чтобы преодолевать за час сто километров, подниматься в воздух на летательном аппарате или вести разговоры через океан, но в том, главным образом, чтобы обогатить свой ум прекрасной мыслью, получить радость от своей работы... Научную цивилизацию следует использовать как служанку, а не поклоняться ей как богине... Духовная культура есть одновременно выражение и результат усилия... Всякая цивилизация, которая направлена на то, чтобы уменьшить усилие, подрывает культуру...» Истинная цивилизация есть состояние равновесия, чрезвычайно неустойчивого, и когда оно чудом устанавливается в мире, его ни в коем случае не следует нарушать. «Врачи, которым я обязан всем, что я знаю, привили мне благоговение перед равновесием. У них есть любимая аксиома, прекрасно выражающая их отношение к этому вопросу: Quieta non movere. Прежде всего не вредить, не нарушать равновесия, ибо, если маятник отклонился от вертикального положения, порой требуется немало усилий и времени, чтобы его в это положение привести снова». Отсюда и свойственное Дюамелю почтение к традиции. Когда читаешь его размышления на эту тему, вспоминается известное изречение одного британского государственного деятеля: «Если перемен можно избежать, значит, их избежать необходимо». В юности Дюамеля еще могли увлечь рассуждения о том, что история должна развиваться путем катастроф, в зрелом же возрасте он стал убежденным консерватором, но консерватором либеральным. «Традиция редко прельщает кипучие души, устремленные в будущее, ибо она скупа на обещания и подразумевает не слом и перестройку, а лишь сохранение уже существующего. Только имея за плечами жестокий опыт прожитых лет, можно понять, что посреди разрушительных толчков, сотрясающих мир, сохранять означает творить».Эта прекрасная фраза напоминает высказывание Дизраэли: «Сохранять — это значит поддерживать и улучшать».Наиболее подходящим жанром для того, чтобы выразить и наполнить жизнью эту философию, был роман.В одной из своих лекций Дюамель говорит о том, что существует два вида романов: те, которые отвлекают нас от мыслей о своей жизни, как, скажем, «Остров сокровищ», и те, которые помогают нам понять ее, как, например, «Доминик» или «Пустыня любви» . Романы, написанные им самим, относятся ко второй категории. Их содержание, по его же собственным словам, составляет повседневность. Он хочет показать необыкновенное через привычное, чудесное через обыденное. И ему это удается. Его мир, разумеется, не так огромен, как мир Бальзака, но все-таки намного больше, чем мир многих современных романистов.Серьезному писателю необходимо знать самые разные стороны человеческой жизни. Диапазон Дюамеля широк. Семейную жизнь и порождаемые ею страсти он знает не только из собственного опыта, но и из тех наблюдений, которые позволила ему сделать медицинская практика. Ему отлично известен мир ученых и литераторов. С деловыми кругами он сам никогда связан не был, однако сумел узнать их достаточно основательно.Дюамель обладает качеством, весьма редким для французского романиста, — чувством юмора.В стилистике, как и в морали, Дюамель держится классической французской традиции. Он не боится использовать в своей эссеистике риторические приемы. Его фраза всегда гармонична, продумана, синтаксис — безукоризненный. Он много писал о французской грамматике, и для него имеет большое значение и выбор слов и их порядок. Ко всем вопросам мастерства он подходит с тщательностью хорошего ремесленника. «Главное — это спросить себя, точно ли написанное тобою выражает твою мысль. Большинство авторов грешит либо против смысла, либо против вкуса. Вот и вся грамматика. К примеру, вы пишите: «Он был крепкого сложения, словно сколочен из камня». Но «сколотить» что-то можно из досок, а из камня высекают. Или вы пишите: «Человек, которого читатель знает лучше, чем мать». Эту фразу можно прочесть по-разному. Но если я правильно вас понял, то нужно было сказать: «Человек, которого читатель знает лучше, чем его знает мать». Так будет более громоздко, зато более точно. Это не грамматика, это вежливость. А что я читаю дальше? «Мнение, которое мы целиком разделяем». Невозможно! Между словами «разделять» и «целиком» существует противоречие. То, что разделено, то не может быть целым. По крайней мере это допустимая точка зрения. Быть может, вы имеете в виду, что разделу подлежит не часть предмета, а весь он в полном объеме? Тогда это очень плохо выражено. Теперь, внимание! Вы говорите о «червивом персике». Поставьте лучше вместо персика яблоко, это не так красиво, зато верно. Персики почти никогда не бывают червивыми». Если бы все манифесты и политические речи писались с такой же скрупулезностью, то, вероятно, путаница в умах была бы менее распространенным явлением. Соблюдение грамматических законов и любовь к языку суть качества основополагающие. Ясность текста — это признак честности ума. Можно писать с большим блеском, чем Дюамель (порой у него встречаются — по тем же заслуживающим уважения причинам, что и у Флобера, — тяжеловатые фразы), но невозможно писать более честно, чем он.Подобно своим героям, Дюамель вступил в жизнь оптимистичным и великодушным мечтателем. Столкнувшись с суровой действительностью, он поглядел на нее с грустью и высвободился из-под ее власти, изобразив ее. Картина получилась мрачная, как и у Мориака, потому что сама жизнь мрачна, глубоко мрачна. И все-таки эта картина не вызывает в нас чувства отчаяния. «Великие люди ссорятся, а мысль продолжает двигаться вперед... Вся листва изъедена, деревья больны, а лес великолепен... Я выстрою себе жизненную систему из обломков своих разочарований»."